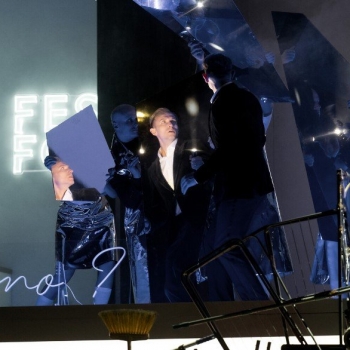В Театре Вахтангова Юрий Бутусов уже ставил «мрачную комедию» Шекспира «Мера за меру», и спектакль начинался как чей-то странный и страшный сон: какие-то люди разбрасывали бутылки, швыряли тряпье, кидались коробками – и мусорили без остановки. «Праздник вседозволенности» продолжался, пока сверху не сказали «стоп». «Бег» по Булгакову – это уже череда снов, не менее странных и не менее страшных.  Первый сон «тянется» на авансцене, перед массивным, как бронепоезд, пожарным занавесом. За ним – звук военного конвейера, лязгающий, как металлическая махина, бухающий на низких частотах – бьет по вискам «тяжелой артиллерией». Перед ним – неподвижная женщина с белеющим лицом и нарастающей дрожью во всем теле. Мимо пробегают люди и вкладывают ей в руку стаканчики с водой. Она их невольно мнет, расплескивает, роняет, а рядом все ставят и ставят новые.
Первый сон «тянется» на авансцене, перед массивным, как бронепоезд, пожарным занавесом. За ним – звук военного конвейера, лязгающий, как металлическая махина, бухающий на низких частотах – бьет по вискам «тяжелой артиллерией». Перед ним – неподвижная женщина с белеющим лицом и нарастающей дрожью во всем теле. Мимо пробегают люди и вкладывают ей в руку стаканчики с водой. Она их невольно мнет, расплескивает, роняет, а рядом все ставят и ставят новые.
Это сон Серафимы Корзухиной (Екатерина Крамзина) – ее страх, нестерпимо громкий, сопоставимый с масштабом бедствия, но несоразмерный маленькой женщине, готовый ее смять, как одноразовый стаканчик.
Смерть ходит рядом – отведя назад руки и слегка перебирая пальцами – ходит плавно, покачивая белым кринолином. И не показывает лица. Уведет она одного – генерала Хлудова (Виктор Добронравов) – просто и бережно взяв за руку. Но только к финалу выяснится, что это его ангел смерти, к нему приставленный. Через все сны она проходит стороной, никого не касаясь и уступив на время место вестовому Крапилину.
Он-то, повешенный по приказу Хлудова, повсюду таскается за ним и волочит за собой табуретку, видимо, ту самую, что выбили из-под ног, опутанную той самой веревкой. Но даже его нельзя назвать навязчивым видением, в отличие от дамочек «в трауре» – их Бутусов снова и снова пускает паровозиком под легкую, или даже легкомысленную, праздничную музыку – наперекор всему – и «заряжает» их карманы конфетти, которое они пускают в воздух вместо орудийных залпов.
Конфетти в спектакле «выстрелит» не раз, в том числе у виска генерала Хлудова, когда он под конец решится пустить себе пулю. Но с первых позиций Бутусов уведет его намного раньше – главной роли здесь в принципе нет: в лихорадочной, сбивчивой череде снов все сровнялись, и молодым, еще не заявлявшим о себе вахтанговским актерам – Артур Иванов (генерал Чарнота), Валерий Ушаков (Корзухин, он же Бронепоезд, начальник станции, начальник контрразведки) – внимания достается не меньше.
 До бегства из России Хлудов – поверенный смерти, ее побратим. Строит свой «частокол» из кладбищенских лопат – она рядом. Разговаривает сам с собой – она напротив, перехватывает его реплики, повторяет его один в один, как зеркальное отражение.
До бегства из России Хлудов – поверенный смерти, ее побратим. Строит свой «частокол» из кладбищенских лопат – она рядом. Разговаривает сам с собой – она напротив, перехватывает его реплики, повторяет его один в один, как зеркальное отражение.
Оставив Крым, командующий фронтом становится раза в два меньше ростом, почти карликом, гномом из подземелья. Он прислуживает как половой, поправляя скатерть, столовые приборы, и постоянно пришептывает себе под нос – еле слышно, не громче, чем шуршат тараканы по ночам: это его эмигрантское «шур-шур-шур» сопровождается мелкими движениями рук и ног, скрюченных, как у Грегора Замзы, который однажды проснувшись, обнаружил, что стал насекомым. Кстати, в одной из самых сильных сцен спектакля это кафкианское превращение соединится с булгаковской метафорой «тараканьи бега» – и Хлудов побежит из России как усатый таракан, с сумасшедшей скоростью перебирая лапками. Но постепенно его движения будут замедляться, «залипать» – и он окончательно перейдет в пространство безвременья.
Бутусов создает в «Беге» болезненный и нестабильный мир «русского лихолетья», хотя и бежит, не оглядываясь, от политических аналогий, наперекор всем ожиданиям зрителей. Раскол в обществе и безумие всего происходящего здесь ощущаются, но как внутренние вибрации, «подземные толчки» спектакля, правда, с высокой амплитудой колебаний. Они дают о себе знать, в том числе, и в «истеричном» бутусовском танце, который перекинулся из сатириконовской «Чайки» на другие спектакли, на других – вместо самого режиссера в вахтанговском «Беге» лихорадочно и отчаянно отбивает ногами Хлудов, и Чарнота, как фронтмен, растерявший свою рок-группу. Он один взвинчивает себя у микрофонной стойки, на абсолютно пустой, темной сцене.
Вакуум как безвоздушное пространство эмигрантской среды, «отгороженность», «отстраненность» от остальных на чужой территории – возникает уже на пустынной площади Константинополя, где Чарнота торгует «красными комиссарами» (как бывший российский военный министр Сухомлинов делал и продавал в Берлине тряпичных кукол, набитых ватой Пьеро и Арлекинов по 10 марок за штуку), а вокруг – совсем никого. Получается, что Чарнота разговаривает сам с собой, как и профессор Голубков (Сергей Епишев). «Цирковые» номера, которые потомственный петроградский интеллигент выделывает с ассистенткой Симой, извлекаемой из клетчатой сумки «челнока», происходят в отсутствие публики, все в той же пустоте вместо Гран-базара.
 Художник Александр Шишкин, постоянный соавтор Бутусова, от излишеств «мусорной стилистики», знакомой по другим работам, отказался, добавив в пространственный образ спектакля минимум предметов из естественной среды и сделав его абсолютно потусторонним, с гигантскими дисками белых и красных лун. О прошлой Гражданской войне, поделившей «русский мир» на своих и чужих, напоминает только раскаленная буржуйка и повешенные солдаты с мешками на голове – их Шишкин рассадил на первых рядах партера. Еще о человеческих потерях красноречиво заявит столпотворение бутафорских черных фортепиано, угловатых, наспех сколоченных, как гробы, и отряд опустевших стульев с шинелями на спинках. Но все они быстро выпадут из сна – образы в спектакле появляются набегами, теснят друг друга и быстро ускользают.
Художник Александр Шишкин, постоянный соавтор Бутусова, от излишеств «мусорной стилистики», знакомой по другим работам, отказался, добавив в пространственный образ спектакля минимум предметов из естественной среды и сделав его абсолютно потусторонним, с гигантскими дисками белых и красных лун. О прошлой Гражданской войне, поделившей «русский мир» на своих и чужих, напоминает только раскаленная буржуйка и повешенные солдаты с мешками на голове – их Шишкин рассадил на первых рядах партера. Еще о человеческих потерях красноречиво заявит столпотворение бутафорских черных фортепиано, угловатых, наспех сколоченных, как гробы, и отряд опустевших стульев с шинелями на спинках. Но все они быстро выпадут из сна – образы в спектакле появляются набегами, теснят друг друга и быстро ускользают.
Булгаковский «Бег» и бутусовский «нелинейный театр» подходят друг другу идеально – «восемь снов» о гражданской войне, как и приемы одного из самых иррациональных режиссеров, не подчиняются логике: это погружение в темные воды подсознания, где допускается предельная свобода ассоциаций и произвольный «порядок слов», где встречаются вставные эстрадные номера, повторы и «обманки», например, мнимые выходы на поклон под песню украинской группы «Океан Эльзи», на которых зрители пытаются аплодировать, а актеры просто выстраиваются в ряд и смотрят в зал. Сцен, приводящих в замешательство, испытывающих «предел» терпения, в спектакле немало. «Бег» – это, конечно, сон мучительный, напряженный, построенный на перепадах тональности, от меланхолично-подавленной у «петербургской дамы» Серафимы до резкой, почти шутовской у запорожца Чарноты. Оба, кстати, получают «черты» комедиантов: и бровки домиком (у нее), и клоунские гримасы (у него). Оба могли бы подать заявку в «клуб одиноких сердец сержанта Пеппера», члены которого тоже не знают, куда и зачем бегут.
«Никто нас не любит, никто... Нужна любовь, а без любви ничего не сделаешь на войне!», – говорит Хлудов о главной потере. Эмигрантская тема здесь – лирическая, она и «озвучена» поэзией: актеры читают стихи Бродского, Довлатова – и сталкивают 20-е годы с 70-ми, с «новыми американцами» из Ленинграда, а «Романс князя Мышкина» – с упрямой песней «Я остаюсь» рок-группы «Черный обелиск», уже родом из 90-х. «А мы опять стоим, и в трюме вода», поэтому вопрос – бежать или не бежать – снова атакует ночной бессмыслицей дневное сознание, которому приспособиться к реальности 2010-х не так уж и просто.
 Первый сон «тянется» на авансцене, перед массивным, как бронепоезд, пожарным занавесом. За ним – звук военного конвейера, лязгающий, как металлическая махина, бухающий на низких частотах – бьет по вискам «тяжелой артиллерией». Перед ним – неподвижная женщина с белеющим лицом и нарастающей дрожью во всем теле. Мимо пробегают люди и вкладывают ей в руку стаканчики с водой. Она их невольно мнет, расплескивает, роняет, а рядом все ставят и ставят новые.
Первый сон «тянется» на авансцене, перед массивным, как бронепоезд, пожарным занавесом. За ним – звук военного конвейера, лязгающий, как металлическая махина, бухающий на низких частотах – бьет по вискам «тяжелой артиллерией». Перед ним – неподвижная женщина с белеющим лицом и нарастающей дрожью во всем теле. Мимо пробегают люди и вкладывают ей в руку стаканчики с водой. Она их невольно мнет, расплескивает, роняет, а рядом все ставят и ставят новые.Это сон Серафимы Корзухиной (Екатерина Крамзина) – ее страх, нестерпимо громкий, сопоставимый с масштабом бедствия, но несоразмерный маленькой женщине, готовый ее смять, как одноразовый стаканчик.
Смерть ходит рядом – отведя назад руки и слегка перебирая пальцами – ходит плавно, покачивая белым кринолином. И не показывает лица. Уведет она одного – генерала Хлудова (Виктор Добронравов) – просто и бережно взяв за руку. Но только к финалу выяснится, что это его ангел смерти, к нему приставленный. Через все сны она проходит стороной, никого не касаясь и уступив на время место вестовому Крапилину.
Он-то, повешенный по приказу Хлудова, повсюду таскается за ним и волочит за собой табуретку, видимо, ту самую, что выбили из-под ног, опутанную той самой веревкой. Но даже его нельзя назвать навязчивым видением, в отличие от дамочек «в трауре» – их Бутусов снова и снова пускает паровозиком под легкую, или даже легкомысленную, праздничную музыку – наперекор всему – и «заряжает» их карманы конфетти, которое они пускают в воздух вместо орудийных залпов.
Конфетти в спектакле «выстрелит» не раз, в том числе у виска генерала Хлудова, когда он под конец решится пустить себе пулю. Но с первых позиций Бутусов уведет его намного раньше – главной роли здесь в принципе нет: в лихорадочной, сбивчивой череде снов все сровнялись, и молодым, еще не заявлявшим о себе вахтанговским актерам – Артур Иванов (генерал Чарнота), Валерий Ушаков (Корзухин, он же Бронепоезд, начальник станции, начальник контрразведки) – внимания достается не меньше.
 До бегства из России Хлудов – поверенный смерти, ее побратим. Строит свой «частокол» из кладбищенских лопат – она рядом. Разговаривает сам с собой – она напротив, перехватывает его реплики, повторяет его один в один, как зеркальное отражение.
До бегства из России Хлудов – поверенный смерти, ее побратим. Строит свой «частокол» из кладбищенских лопат – она рядом. Разговаривает сам с собой – она напротив, перехватывает его реплики, повторяет его один в один, как зеркальное отражение.Оставив Крым, командующий фронтом становится раза в два меньше ростом, почти карликом, гномом из подземелья. Он прислуживает как половой, поправляя скатерть, столовые приборы, и постоянно пришептывает себе под нос – еле слышно, не громче, чем шуршат тараканы по ночам: это его эмигрантское «шур-шур-шур» сопровождается мелкими движениями рук и ног, скрюченных, как у Грегора Замзы, который однажды проснувшись, обнаружил, что стал насекомым. Кстати, в одной из самых сильных сцен спектакля это кафкианское превращение соединится с булгаковской метафорой «тараканьи бега» – и Хлудов побежит из России как усатый таракан, с сумасшедшей скоростью перебирая лапками. Но постепенно его движения будут замедляться, «залипать» – и он окончательно перейдет в пространство безвременья.
Бутусов создает в «Беге» болезненный и нестабильный мир «русского лихолетья», хотя и бежит, не оглядываясь, от политических аналогий, наперекор всем ожиданиям зрителей. Раскол в обществе и безумие всего происходящего здесь ощущаются, но как внутренние вибрации, «подземные толчки» спектакля, правда, с высокой амплитудой колебаний. Они дают о себе знать, в том числе, и в «истеричном» бутусовском танце, который перекинулся из сатириконовской «Чайки» на другие спектакли, на других – вместо самого режиссера в вахтанговском «Беге» лихорадочно и отчаянно отбивает ногами Хлудов, и Чарнота, как фронтмен, растерявший свою рок-группу. Он один взвинчивает себя у микрофонной стойки, на абсолютно пустой, темной сцене.
Вакуум как безвоздушное пространство эмигрантской среды, «отгороженность», «отстраненность» от остальных на чужой территории – возникает уже на пустынной площади Константинополя, где Чарнота торгует «красными комиссарами» (как бывший российский военный министр Сухомлинов делал и продавал в Берлине тряпичных кукол, набитых ватой Пьеро и Арлекинов по 10 марок за штуку), а вокруг – совсем никого. Получается, что Чарнота разговаривает сам с собой, как и профессор Голубков (Сергей Епишев). «Цирковые» номера, которые потомственный петроградский интеллигент выделывает с ассистенткой Симой, извлекаемой из клетчатой сумки «челнока», происходят в отсутствие публики, все в той же пустоте вместо Гран-базара.
 Художник Александр Шишкин, постоянный соавтор Бутусова, от излишеств «мусорной стилистики», знакомой по другим работам, отказался, добавив в пространственный образ спектакля минимум предметов из естественной среды и сделав его абсолютно потусторонним, с гигантскими дисками белых и красных лун. О прошлой Гражданской войне, поделившей «русский мир» на своих и чужих, напоминает только раскаленная буржуйка и повешенные солдаты с мешками на голове – их Шишкин рассадил на первых рядах партера. Еще о человеческих потерях красноречиво заявит столпотворение бутафорских черных фортепиано, угловатых, наспех сколоченных, как гробы, и отряд опустевших стульев с шинелями на спинках. Но все они быстро выпадут из сна – образы в спектакле появляются набегами, теснят друг друга и быстро ускользают.
Художник Александр Шишкин, постоянный соавтор Бутусова, от излишеств «мусорной стилистики», знакомой по другим работам, отказался, добавив в пространственный образ спектакля минимум предметов из естественной среды и сделав его абсолютно потусторонним, с гигантскими дисками белых и красных лун. О прошлой Гражданской войне, поделившей «русский мир» на своих и чужих, напоминает только раскаленная буржуйка и повешенные солдаты с мешками на голове – их Шишкин рассадил на первых рядах партера. Еще о человеческих потерях красноречиво заявит столпотворение бутафорских черных фортепиано, угловатых, наспех сколоченных, как гробы, и отряд опустевших стульев с шинелями на спинках. Но все они быстро выпадут из сна – образы в спектакле появляются набегами, теснят друг друга и быстро ускользают. Булгаковский «Бег» и бутусовский «нелинейный театр» подходят друг другу идеально – «восемь снов» о гражданской войне, как и приемы одного из самых иррациональных режиссеров, не подчиняются логике: это погружение в темные воды подсознания, где допускается предельная свобода ассоциаций и произвольный «порядок слов», где встречаются вставные эстрадные номера, повторы и «обманки», например, мнимые выходы на поклон под песню украинской группы «Океан Эльзи», на которых зрители пытаются аплодировать, а актеры просто выстраиваются в ряд и смотрят в зал. Сцен, приводящих в замешательство, испытывающих «предел» терпения, в спектакле немало. «Бег» – это, конечно, сон мучительный, напряженный, построенный на перепадах тональности, от меланхолично-подавленной у «петербургской дамы» Серафимы до резкой, почти шутовской у запорожца Чарноты. Оба, кстати, получают «черты» комедиантов: и бровки домиком (у нее), и клоунские гримасы (у него). Оба могли бы подать заявку в «клуб одиноких сердец сержанта Пеппера», члены которого тоже не знают, куда и зачем бегут.
«Никто нас не любит, никто... Нужна любовь, а без любви ничего не сделаешь на войне!», – говорит Хлудов о главной потере. Эмигрантская тема здесь – лирическая, она и «озвучена» поэзией: актеры читают стихи Бродского, Довлатова – и сталкивают 20-е годы с 70-ми, с «новыми американцами» из Ленинграда, а «Романс князя Мышкина» – с упрямой песней «Я остаюсь» рок-группы «Черный обелиск», уже родом из 90-х. «А мы опять стоим, и в трюме вода», поэтому вопрос – бежать или не бежать – снова атакует ночной бессмыслицей дневное сознание, которому приспособиться к реальности 2010-х не так уж и просто.